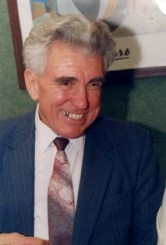Михаил Ринский
БИОГРАФИЯ ВОСХОЖДЕНИЯ
18 февраля 1995 года московская газета «Культура», серьёзное всероссийское издание, публикует под названием «Язык – друг и враг» интереснейшее интервью спецкора в Тель-Авиве, посвящённое вопросам адаптации российских репатриантов в Израиле и прямой её зависимости от скорости и степени освоения ими языка. Здесь – и об особенностях иврита, и о методике его преподавания, и о психологии его освоения. Читаешь и кажется, что интервьюируемая – по меньшей мере доктор филологических наук. А между тем Юдит Байн-Карлик 27 лет преподавала детям математику и лишь десять лет – иврит россиянам, а сама заговорила на иврите по приезде в Израиль в девятилетнем возрасте. Интересно было читать её интервью, но не менее интересным оказался рассказ этой незаурядной женщины о сложной судьбе её семьи и её собственной жизни.
РОССИЯ – КИТАЙ
Полтора миллиона евреев покинули европейскую часть Российской империи ещё до Первой мировой войны, особенно после погромного и революционного 1905 года. Большинство стремилось на ещё не обжитый американский континент. Но немало было и таких, которые, пытаясь использовать провозглашённые властями льготы для переселенцев, решили попытать счастья на востоке.
Вот и большая семья Верцманов не поленилась проделать в вагонах поездов 18-дневный путь от Херсона до Харбина, где после завершения строительства Китайско-восточной железной дороги российское население быстро росло, несмотря на поражение России в войне с Японией. Прирастало и число евреев, и их роль в жизни города: в 1909 году из 40 членов муниципалитета Харбина 12 были евреями. Как раз в 1910-м Верцманы прибыли в Харбин. Как и большинство евреев города, занялись торговлей. Дочурке Софочке было тогда всего три года.
Когда в 1917году в России произошла революция, 17-летний старший сын Григорий, став коммунистом, уехал в Хабаровск защищать Советы. Крутой глава семьи Иосиф разыскал его там, привёз в Харбин, а затем отправил сына в совсем другой мир, в американский Чикаго. Там Григорий вроде бы образумился, стал учиться на авиаинженера, женился, но в 1933-м вдруг оказался в Москве вместе с женой, и в том же году они канули в неизвестность, как и тысячи их соотечественников, поддавшихся большевистской агитации и приехавших в СССР.
Верцманы не приняли советское гражданство. В Харбине Софа окончила гимназию и бухгалтерские курсы, но работать не пришлось: она вышла замуж за молодого, энергичного и уже тогда достаточно состоятельного Михаила Карлика. Его путь в Харбин был более сложным. В смутном 1917-м семья Карликов уехала из городка Балта Одесской области во Владивосток, где глава семьи открыл хозяйственный магазин, но через год простудился и умер от воспаления лёгких. Его жене пришлось взвалить на свои хрупкие плечи заботы и о магазине, и о четырёх детях. С годами дети подросли, стали помогать матери. После гражданской войны и благоприятного для торговли периода НЭПа началось постепенное притеснение советской властью частных предпринимателей. Сначала старший из сыновей Григорий, а вслед за ним и средний Михаил перебрались в Харбин, нелегально перейдя границу.
Здесь они оказались в статусе лиц без гражданства. Открыли своё дело, занялись торговлей текстилем и пушниной и неплохо преуспели в этом деле. Оккупация Маньчжурии японцами, создание марионеточного государства Маньчжуго и вытеснение Советского Союза из Харбина и с Китайско-Чанчуньской железной дороги привело к массовому оттоку русскоязычного населения, но не помешало братьям удачно вести бизнес. Со временем Михаил женился на прелестной, образованной Софье Верцман и снял дорогую квартиру в одном из самых престижных, известном харбинцам «доме Антипаса», по имени хозяина-грека. В 1940 году у молодых родилась дочь Юдит.
Михаил Карлик активно участвовал в жизни еврейской общины Харбина «ХЕДО», входил в состав её руководства, которое возглавлял доктор А. И. Кауфман.
Осенью 1945 года, после капитуляции Японии и прихода Советской армии, семья Карлик жила в напряжении: уже вскоре начались аресты. Заодно с действительно сотрудничавшими с японскими властями арестовывали и людей, ничем не запятнавших себя. В первые же дни был арестован А. И. Кауфман. А 10 декабря пришла очередь Михаила Карлика. Софье разрешили единственное свидание с мужем. Она ходила в органы, просила вместе с Михаилом отправить и её с дочерью – наивно и безуспешно. Хорошо ещё – не обыскивали их квартиру и не конфисковали вещи. Это помогло Софье «продержаться» пять лет, постепенно продавая вещи: на работу жену репрессированного нигде не принимали. И вообще – Софья оказалась в вакууме: лишь в первые дни после ареста мужа к ней обратились те, кому был должен Михаил. Кто ему был должен – не обращались. И на удивление дружно ранее такие радушные друзья-евреи перестали общаться с Софьей. Общались только русские женщины, мужья которых оказались в тюрьме вместе с Михаилом: их с Софьей повязали общие заботы. Все годы жизни Михаил и Софья были в уверенности, что на него «указал» кто-то из «своих» - такой вывод они делали по вопросам, задававшимся следователями на допросах, и по поведению некоторых людей. Но доказать это они, естественно, не могли.

Харбин, 1949 год. Еврейская школа "Талмуд-Тора". Юдит - в верхнем ряду справа.

Провозглашение Государства Израиль в 1948 году ускорило решение семьи об отъезде, а предложение Китайской республики европейцам беспрепятственно покинуть Китай ускорило и сам отъезд. Тем более, что ещё с 30-х годов у них в Палестине были родственники. И в 1950 году из порта Тяньцзин отплыли в молодой воюющий Израиль. Состав их семейной группы: Софья с Юдит, её младший брат Леонид с женой и сыном, две бабушки – Софьи и Михаила.
На пароходе «Анна Сален» плыли 78 дней по маршруту: японский порт Кобэ – Гонолулу – Панамский канал – Канары – итальянский Неаполь. Из Италии тем же путём, что многие репатрианты, и на том же пароходе «Негба» приплыли в Хайфу.
ТРУДНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
Тысячи и тысячи репатриантов, прибывавших через порт Хайфы, прошли в те первые годы Израиля через лагерь «Шаар алия» - «Ворота алии» у подножия горы Кармель. Те же большие общие палатки, те же общие умывальные и туалеты, сложности с продуктами, варкой пищи, постельным бельём… Но понимали и не унывали. Через две недели их перевели в лагерь «Махане олим Эйн Шемер» под Хадерой. Здесь условия были примерно те же. Софья и Леонид брались за любую работу, но постоянной не было. Пришлось Софье и Леониду определить детей в интернат. Впрочем, в те годы, в той трудной обстановке и при той, ещё просоциалистической идеологии «обобществление» детей было, как само собой.
Иерусалимский интернат был предназначен для детей-сирот из Франции, Румынии и других стран. Юдит была одной из немногих, к кому один раз в три недели приезжала мама. На первых порах были трудности с общением. У Софьи был идиш, у Юдит – начальный иврит, приобретённый в харбинской еврейской школе, очень слабый, так как дома говорили на русском. Но постепенно «разговорились». Если чему хорошо учит интернат детей, так это самостоятельности. После четырёх с половиной лет в интернате, в пятнадцатилетнем возрасте, Юдит вышла из него достаточно самостоятельной.
Ещё в период её жизни в интернате, в 1954 году, вдруг приехала мама с радостной вестью: ей переслали письмо из российского «почтового ящика», то есть из лагеря или другой какой-нибудь «закрытой зоны», отосланное оттуда в Харбин, и затем переправленное в Израиль еврейской общиной – немногими, кто там ещё оставался. Оказалось, что Михаил Карлик – в Караганде. Сначала его отправили на Колыму, но ещё в эшелоне у заключённого Карлика был такой вид больного «доходяги», применяя лагерный жаргон, что его перевели в этап, направлявшийся в Казахстан. Софья, - с помощью Теодора Кауфмана, который принял в этом такое же участие, как в отношении собственного отца, - сделала всё возможное, чтобы вызволить мужа.
Она к этому времени уже снимала комнату в Гиватайме и работала на школьной кухне. В 1955 году мама забрала из интерната дочь, и Юдит продолжила учёбу уже в гимназии в Петах-Тикве. Софья, борясь за возвращение мужа, каждый месяц посылала письма на имя Хрущёва, Булганина, Ворошилова. Часто она поручала отсылку Юдит, но та, не веря в действенность этих писем и просто по легкомыслию, часто не отсылала их, а прятала дома. Мать как-то обнаружила письма и устроила такую истерику, которая запомнилась Юдит навсегда. В частичное оправдание Юдит стоит сказать, что всё равно ни на одно письмо не пришло не только ответа, но и оплаченного заранее уведомления о вручении писем почтой канцеляриям адресатов.
Закончив гимназию, Юдит продолжила учёбу в педагогическом училище – на базе той же гимназии. В 1960 году она окончила училище со специализацией учителя математики. Тогда же Юдит вышла замуж за Ури Байна, - сабра, который тоже окончил это училище и успел отслужить в ЦАХАЛе. Замужних в то время в армию не брали, и молодые уехали работать в Кирьят-Шмоне. Там Юдит преподавала математику, Ури – биологию.
ИЗ СОВЕТСКОГО ПЛЕНА
Отец только в 1962 году вырвался из Советского Союза. Только тогда семья узнала всю его эпопею. По приезде в Казахстан, в лагерь под Карагандой, заключённый Михаил Карлик заявил, что имеет опыт работы пекарем, фактически не имея такого опыта. Хорошо, что нашлись консультанты, и Михаил освоил эту профессию, что спасло ему в лагере жизнь. Хлеб в тех условиях был – всё, он спасал Карлика от беспредела бандитов, ворья и просто антисемитов.
Лишь в 1954 году, когда после смерти «великого кормчего» распустили лагеря, Михаил оказался в Джезказгане, на свободном поселении, и работал прорабом на стройке. Он не имел права выезда из области и должен был периодически отмечаться в милиции. В конце концов, израильским органам удалось вызволить Михаила Карлика, снабдив его израильским паспортом – дарконом, столь интересным по оформлению, что советские органы могли и впрямь «копнуть» поглубже. Поэтому, оформив визу в Караганде, Михаила доставили прямо в консульство Израиля и не отправили рейсом Аэрофлота, а несколько дней продержали в экстерриториальном консульстве, дожидаясь рейса самолёта австрийской компании и, привезя прямо к рейсу, отправили в Вену. Далее препятствий не было, и ещё один оле-хадаш пополнил население Государства Израиль в июне 1962 года.
 Израильский паспорт Михаила Карлика испещрён печатями, отражающими его путь от Джезказгана до Бен- Гуриона
Израильский паспорт Михаила Карлика испещрён печатями, отражающими его путь от Джезказгана до Бен- ГурионаКарлик приехал из Советского Союза с больными лёгкими – характерной болезнью многих советских ЗК. Они с Софьей поселились в Холоне. Михаил тяжело работал на фабрике электротоваров - другой работы не было. Быть может, это не способствовало его физическому здоровью, но работа отвлекала его от воспоминаний о пережитом и способствовала реабилитации психологической, крайне необходимой ему. В первое время после приезда Михаил всё так же, как в России был замкнут, неразговорчив и тем более не делился своими воспоминаниями, а по ночам кричал во сне – кошмары продолжали сниться ему всю оставшуюся жизнь. Лишь со временем, немного придя в себя, он начал постепенно рассказывать о пережитом в лагерях, где ему, как политическому, пришлось несколько лет провести в среде власовцев и бендеровцев - антисемитов. Выпущенный в 1954-м на поселение, он должен был отмечаться в местных органах. Его своеобразно предупредили: в случае чего его повсюду достанут, «как достали Троцкого». Сопоставление столь же лестное, сколь и странное. Работать ему пришлось на стройке – хорошо ещё, что прорабом, а не работягой – с его подорванным здоровьем. Но рабочие у Михаила были всё те же вчерашние лагерники, поднадзорные поселенцы, за которых он к тому же должен был отвечать.
МАТЕМАТИКА И ИВРИТ
После пяти лет работы в Кирьят-Шмоне Ури и Юдит переехали в Ашдод – преподавали в местных школах те же биологию и математику. Со временем Ури Байн был назначен директором школы. Юдит продолжала учительствовать, одно время была и заместителем директора школы. Почти полтора десятка лет они проработали в Ашдоде и затем окончательно обосновались в Реховоте, где продолжали учительствовать. С годами семья пополнилась двумя дочерьми и сыном – надо было всё больше внимания уделять семье. Тем не менее, Юдит «продержалась» на работе почти до полной пенсии и ушла в 1988 году хотя и досрочно, но имея уже 27-летний стаж, при праве учителя на пенсию со стажем 25 лет. Ури продолжал работать «до последнего» и ушёл на отдых только в 2002 году, в возрасте 65 лет.

Львов, 1990 год. Детский класс иврита. Юдит Байн-Карлик - в центре.
На собеседовании он спросил, почему Юдит хочет поехать в Россию, и она рассказала об отце, закончив тем, что её работа в пользу репатриации евреев из России будет своеобразным ответом этой стране за 17-летние страдания отца и его преждевременную смерть. «А теперь я уже требую, чтобы ты поехала в Россию!» - сказал Гильад, выслушав её.
Юдит уверена, что каждый из 30-ти человек в её группе, направлявшихся на работу в Россию, ехал, как и она, из патриотических побуждений, не интересовался зарплатой, а готов был ехать волонтёром. После подготовительных курсов, в апреле 1990 года, Юдит предложили ехать в Биробиджан, но по рекомендации Гильада в конце концов направили во Львов. Здесь еврейская община приняла её на редкость радушно. В 1990-м, одном из решающих в распаде Союза и обострении отношений, в том числе межнациональных, бурно нарастало стремление евреев к репатриации в Израиль. Западно-украинские евреи были среди самых активных: здесь антисемитизм того гляди мог привести к погромам. Так что желающих изучать иврит было так много, что работать пришлось все три месяца с утра до вечера без передышки.
Затем, после Львова, последовали командировки в Таллин, Минск, Баку…Преподавала уже не ученикам, а подготавливала учителей иврита из местных – будущих репатриантов. С 1990 по 2001 год Юдит «гуляла» по разваливающемуся тому, что только что было сверхдержавой, внося свой немалый вклад в подготовку и репатриацию собратьев как раз в самые напряжённые годы миллионной алии. Но не менее важно было, наряду с количеством, качество будущих её сограждан. Оказавшись, например, в Северодонецке, Юдит помогла ускорить решение вопросов репатриации двум отличным компьютерщикам.
Трижды командировали Юдит в Одессу: в 1991, 1995 и с 1999 по 2001 год, в последний раз – посланницей Сохнута в Одессе по образованию: курировала всю Южную Украину и Молдову. Местные преподаватели к этому времени были уже хорошо подготовлены. Юдит тепло отзывается об уникальном человеке, директоре Сохнута в Одессе в период её работы там Исраэле Рошале. Будучи по профессии программистом, он, в то же время, является автором слов и музыки выдающегося произведения – песни «Кахоль вэ лаван». Между прочим, ему, ровеснику Государства Израиль, родившемуся в мае 1948 года, родители дали в честь этого события имя Исраэль ещё в Минске, немало рискуя. Репатриировались они в 1970 году. Юдит было очень интересно общаться с этим неординарным человеком и работать под его руководством.

2001год. Представитель Сохнута Юдит Байн-Карлик (вторая справа) с группой учителей иврита юга Украины при посещении Освенцима.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Наша беседа затянулась, тем не менее не могу не воспользоваться случаем узнать мнение умного и опытного человека по актуальным и как раз соответствующим её работе вопросам.
Привожу Юдит цитату из «романа-комикса» «Синдикат» о работе Сохнута, в московском отделении которого писательница работала: «Кого они в страну тащат?.. Какое отношение имеют к стране эти люди?...» - имеются в виду «липовые евреи», как их называют в романе. Да, говорит Юдит, издержки были и есть, но в рамках Закона о возвращении. Да, приезжали в центры люди из городов и местечек с сомнительными документами, но они по возможности тщательно проверялись. Вскрывавшиеся нарушения – скорей исключения, а не правило.
Не согласна Юдит и с трактовкой «Синдиката», как «полуподпольной организации, …закрытого братства…». Быть может, это было в Москве, а в областях, где работала Юдит, она хотя и не афишировала, но и не скрывала своей работы и принадлежности к Сохнуту. Да, были меры безопасности, но не в той гротескной степени, как это преподносит Рубина.
Юдит, как опытный учитель, имеет и своё мнение в отношении «реформы просвещения». Она в принципе за обновление всей системы просвещения. Но в той форме, что происходит сейчас, «сокращение» вылилось в произвол, в увольнение не так неквалифицированных, как неугодных, прежде всего директорам, учителей. А также тех безответных, которых можно уволить с меньшим скандалом, например учителей-репатриантов, хотя многие из них по квалификации значительно выше оставляемых, и к тому же они остаются вообще без пенсии, без работы и без надежды. В то же время, считает Юдит, непомерно раздуты штаты инспекторов, среди которых много «пристроенных». Вот где резерв экономии.
Но главное всё-таки – заняться, наконец, детьми, их обучением, программами, культурой.
Резкий спад в уровне преподавания, считает Юдит Байн, произошёл в последние десять лет, как результат глубокого расслоения общества. Богатым и власть имущим всё меньше дела до народного образования: их дети учатся в элитных и частных школах, им нанимают домашних учителей. Юдит очень сомневается в том, что в обозримом будущем удастся существенно улучшить образование. Пока это только декларации, говорит она.
После прекращения работы Юдит в Сохнуте и ухода Ури на пенсию они уделяют больше внимания своим двум дочерям, сыну и внукам. Кроме того, у Юдит уходит много времени на общественную работу: она – член Президиума Ассоциации выходцев из Китая в Израиле «Игуд Иоцей Син», принимает активное участие в выпуске бюллетеней этой ассоциации.
Жизненный путь семей Карликов и Верцманов, как и сотен тысяч еврейских семей ХХ-го века, в том числе репатриантов первых лет истории Израиля, очень нелёгок. И если родителям не суждено было внести существенный вклад в становление молодой страны, то их дочь Юдит, приняв эстафету, сделала это, добавив ещё и вполне достойный вклад в завтрашний день страны, воспитав сотни новых её граждан и ещё тысячами новых граждан пополнив страну.
Михаил Ринский (972) (0)3-6161361 (972) (0)54-5529955
mikhael_33@012.net.il

 Семён (справа) и Юрий (в цетре) Клейны в форме "Бейтара".
Семён (справа) и Юрий (в цетре) Клейны в форме "Бейтара".
 Вера и Юра Клейны - родители Юдит
Вера и Юра Клейны - родители Юдит Юдит и Исраэль Сандель
Юдит и Исраэль Сандель


 Авраам Клейн
Авраам Клейн Сарра Клейн-Азарович
Сарра Клейн-Азарович Начальник "Бейтара" Семён Клейн
Начальник "Бейтара" Семён Клейн Олга и Йоси на улице Харбина
Олга и Йоси на улице Харбина Няня Таня с маленьким Йоси
Няня Таня с маленьким Йоси Свадьба Йоси и Пнины
Свадьба Йоси и Пнины Семён и Ольга с внуками
Семён и Ольга с внуками С друзьями в Ассоциации Игуд Йоцей Син
С друзьями в Ассоциации Игуд Йоцей Син

 Давид Бен-Гурион и Голда Меир
Давид Бен-Гурион и Голда Меир эр Иерусалима Т. Коллек вручает почётный знак Иерусалима К. Симонову. И ещё, и ещё…
эр Иерусалима Т. Коллек вручает почётный знак Иерусалима К. Симонову. И ещё, и ещё… Мстислав Ростропович
Мстислав Ростропович